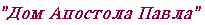
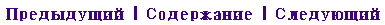
Господь
есть Дух,
а где Дух
Господень,
там
свобода.
Второе
послание
к
Коринфянам 3,17
БОГОМ
ПОЦЕЛОВАННЫЙ
Тавры,
гигантской подковой полуобняв киликийскую долину, дарили ее всему сущему,
живущему на ней. И правда, осень стояла на удивление сытая, красочная,
искушающая. С утра и до вечера в высоком небе полыхало по-летнему жаркое солнце.
Белоснежные вершины все еще таяли, кристально чистые ручейки сбегались в русло
быстрого Кидона, на берегах которого дремал на солнце один из самых богатых,
один из самых живописных, один из самых греховных городов Римской империи. А
дальше, за Тарсом, за речной гаванью, голубело в лучах солнца Средиземное море,
колыбель современной цивилизации и, стало быть, наша с тобой колыбель, дорогой
читатель.
Мир,
однако, огромен, судьба не ко всем одинаково милостива, и в то самое время,
когда хмельной Тарс праздновал великое чудо земного бытия, озябший мальчик сидел
на каменном полу плохо освещенной комнатки и корпел над обрывками вконец
запутанной пряжи. Ухо перевязано, с носа капает, и весь его унылый вид говорил о
том, что нету у него друзей, готовых в трудный час прийти, на помощь. Но велик
Господь! Неожиданно открывается дверь, и входит Она. Мальчик вздрогнул от
неожиданности. Его крупная голова тихо сползла набок и замерла в
удивлении.
- Ты чего
на меня так уставился? Как зовут-то?
-
Саул.
- Что же
ты, Саул... К тебе приходит девушка, а ты ей вовсе не рад?
- Я тебя
не знаю.
- Даже
если ты меня не знаешь, а я вхожу в твой дом, тебе все равно следовало бы
встать, подойти, поприветствовать меня. Я ведь не только твоя гостья, я еще и
твоя родственница из Антиохии. А зовут меня Фамарь.
- Нет, -
сказал Саул. - Такому никто не поверит.
- То есть,
чему не поверят?
- Что ты
моя родственница.
- Да
отчего не поверят?
- Ты вон
какая высокая и прекрасная, а я рядом с тобой вовсе никто.
- Положим,
и я не такая уж красавица, да и ты не такой уж урод.
- Меня
рост подвел, - сказал Саул и нервная дрожь прошлась по его личику. - Потому вот
и отсиживаюсь дома. Сыновья красильщика обидное такое прозвище
придумали...
-
Какое?
- Таврский
карлик.
- Ну, что
это за прозвище!.. Выйди, вон, на улицу, посмотри на эти белоснежные вершины, от
которых дух захватывает...
- Да, но
если потом с этих гор перевести взгляд...
- Но ты же
еще совсем мальчик! Подойдут годы, и ты наверняка догонишь отца.
- Вряд
ли.
- Отчего
так думаешь?
- Когда
расцвели оливы, я померил себя, сделал метку. Теперь оливы поспели, их собрали,
сбили масло, а я все еще там.
- И не
может человек сам себя померить! Иди сюда. Где метка?
Мальчик
неохотно поднялся с пола, дал себя померить, но не дал себя утешить. Вернулся к
своей работе, низко опустив голову, чтобы не видеть ничего, кроме своих рук,
мотка и пряжи.
- И
ничего, - сказала Фамарь. - Кроме роста, у человека могут быть и другие
достоинства.
-
Какие?
- А Божьи
дары?
- У меня
их нету.
- Этого ты
знать не можешь.
- А кто
про это может знать?
- Никто,
кроме Господа Бога. Потому что самые великие дары, они ведь лежат на дне души в
полной безвестности.
- И
сколько они там будут лежать?
- А никто
не знает. Они могут пролежать долго, очень долго. Потому что, вот, ходит по
земле ничем не примечательный человечек, и никому, даже ему самому, неизвестно,
что он отмечен Господом. Но настанет его час, и он удивит мир.
-
Чем?
- Мало ли
чем! Умением творить чудеса. Удивительной памятью, способной запомнить все
шестьсот шесть заповедей. Необычайной верой в Бога...
- Вера в
Бога есть обязанность, а не достоинство. Не хвальба.
- Дружок
ты мой, разве ты не знаешь, что в писании сказано - хвалящийся, хвались
Господом! Ты знал этот стих? Почему молчишь?
- Я
работаю.
- Ах ты
труженик мой! Иди, я тебя обниму и поцелую.
- С чего
это вдруг?
- Как с
чего? Я твоя тетка, ты мой племянник. Должны же мы как-то
встретиться?
- Сегодня
меня нельзя целовать.
-
Почему?
- Извержен
из круга семьи. За вопли.
- То есть
как, за вопли?
-
Проснулся среди ночи, разревелся и разбудил весь дом.
- А и
вправду, чего ты нюни распустил?
-
Светильник потух.
- Ну,
потух светильник, и что же?
- Стало
темно, а я боюсь темноты.
- Что ж
такого, все дети боятся темноты. Для того в детских комнатах и зажигают по ночам
светильники.
- Зажечь -
это полдела. За ними нужно еще и присмотреть. Хорошо, когда есть кому по ночам
присмотреть за светильником, а у меня матери нету. Я сирота.
- Ну,
какой ты сирота! Матушку, правда, ангелы Господни унесли на небеса, зато у тебя
сестры. Отец, слава Богу, жив-здоров, уважаем во всем городе. Благословенный ваш
дом пребывает в полном достатке. Родни всякой на каждом шагу.
- Что в
них толку, если никто не хочет свести меня на реку.
- Почему
не хотят?
- Боятся,
что я увижу, как купаются дети неевреев.
- Ну,
увидишь ты их, и что же?
- Оскверню
мой глаз.
- Ребенку
невозможно осквернить глаз.
- А кроме
того, говорят, что, если и тебе самому захочется покупаться?
- И что
удивительного? Стоит жаркая осень, душно, всем хочется купаться.
- Как -
всем?
- Да вот,
представь себе, всем. И детям, и взрослым, и персам, и эллинам. Богоизбранный
народ тоскует по реке.
- Чего
себя расстраивать, если купаться нам негде! И в Кидоне, и в море уже покупались
неевреи. Своей реки, своего моря у нас нет.
- И не
будет, - сказала Фамарь.
-
Почему?
- Потому,
что ни один народ не может владеть рекой или морем. Реки и моря сотворены
Господом для всех. Надо купаться вместе.
- С
неевреями?!
- А что
такого! Я сама, между прочим, и не один раз...
-
Умолкни!! - вскричал мальчик. - Ты разве со скалы позора?
- Боюсь,
конечно, но я же вижу, с кем имею дело. Ты ведь меня не выдашь?
- Саул не
выдает.
- Ну и
прекрасно. Давай побыстрей покончим с этой пряжей, и я сама сведу тебя на
реку.
Саул долго
сопел, размышляя.
- А какая
тебе выгода водить на реку чужих мальчиков?
Фамарь
расхохоталась. Когда смеялась, она раскрывалась как цветок, и хотелось тут же
сказать еще что-нибудь смешное, чтобы этот цветок не закрывался. Увы, Саул не
умел смешить, и цветок закрылся.
-
Во-первых, раз я твоя тетка, ты мне вовсе не чужой. Во-вторых, я и сама люблю
смотреть на купающихся. А в-третьих, меня и привезли сюда для того, чтобы я
гуляла с тобой, научила бы прясть и, конечно, чтобы присмотреть по ночам за
твоим светильником.
- Со
светильником у тебя не получится.
-
Почему?
- Молодым
девушкам не по силам продержать светильник горящим всю ночь.
- Ну, если
я сосну, а он погаснет, ты сам меня и разбудишь.
- Ты
собираешься спать в моей комнатке?!
- Разве ты
меня не примешь?
- Я бы
очень хотел, но врач сказал отцу, что меня нельзя пускать к
девочкам.
- Что
так?
- Они меня
жутко волнуют. При одном их виде я начинаю заикаться.
- А меня
волнуют мальчики. Я от них тоже заикаюсь.
- И что
нам делать?
- А
ничего. Поживут в этой комнатке двое заик. А чтобы совсем не испортить речь,
повесим занавесочку между моей и твоей постелью. Ты приютишь меня под своим
крылом?
Саул долго
сопел, размышляя, после чего тихо молвил "хо все", что на арамейском означало -
ладно, добро, заметано.
Боже, как
он ее любил! Любил и боялся потерять, это было счастье, постоянно содрогаемое
предчувствиями неминуемого горя. Ему шел шестой годик, а Фамарь уже расцвела
воистину как молодая пальма, откуда и произошло ее имя. Мало того, что она была
на редкость хороша собой, она родилась и выросла в Антиохии, городе,
прославившемся своим знаменитым Садом любви. Все тарсянские евреи тайно мечтали
привезти себе молодую жену из Антиохии, чтобы здесь, на берегах Кидона, помочь
ей постигнуть строгости Моисеевых законов.
Город
шелковых тканей и озорных модниц, задававший тон всей Римской империи, город,
удостоенный посещением знаменитой египетской царицы Клеопатры, пришелся как
нельзя более по душе молодой антиохиянке. Ее непоседливая натура воистину не
ведала покоя. За день она успевала заставить дернуть головой от неожиданности
сотни тайных поклонников женских чар, воспетых в Песни Песней. По ночам сердечко
маленького Саула замирало в предчувствии надвигающегося краха, и крах-таки
наступил.
Когда
завершилась бесконечно прекрасная фиеста осени, однажды в полночь пошел сильный
дождь. Море штормило, гигантские волны выбрасывали рыбацкие суденышки на берег,
слизывали их, чтобы снова выбросить. Соленый гул взбесившейся стихии разбудил
среди ночи весь город. Выли собаки, плакали дети, куда-то несся обезумевший
табун ослов.
Для Саула
самым трудным было проснуться. Он долго, мучительно выбирался из огромных сетей
сновидений, и когда уже почти выбрался, вдруг приснилось, что упал с корабля и
тонет в морской пучине. Из страха, чтобы не рассердить отца, не стал звать на
помощь. Тихо, молча все выплывал и выплывал из каких-то темных глубин, волны его
опять накрывали, и он опять, с надеждой на одного Бога, выкарабкивался. Когда
ему наконец удалось проснуться, обнаружил, что в комнате темно. Светильник
погас, а вдали шумело, разрывалось море.
-
Фамарь!
Она не
ответила. Охваченный тревогой, нырнул под занавесочку. Постель была холодной и
пустой. Боже, неужели потонула? Если ее проглотили волны, ему тоже незачем жить.
Надо было тут же сообщить отцу о случившемся. Недолго думая, мальчик обернулся
покрывалом и выкатился во двор.
Отчий дом
Саула был построен по типу состоятельных римских домов. Маленький дворик,
закрытый с четырех сторон каменным строением. На первом этаже склады,
мастерские, конюшня, лавка. Второй этаж был жилой. В центре дворика, называемого
римлянами атриумом, возвышался мраморный недостроенный фонтан с фонарем,
освещавшим по ночам двор и все службы дома.
Промокший
до костей мальчик стоял под дождем и размышлял. Показаться отцу в таком виде
было опасно, могло последовать еще одно извержение из круга семьи. Особенно отца
возмущали нервные срывы, переходившие в лихорадку. Если дрожишь от холода, нужно
мокнуть дальше, пока дрожь не сойдет сама собой. Чтобы войти к отцу достойно,
Саул простоял еще некоторое время под качающимся на ветру фонарем, удивляясь
тому, что вместе с фонарем качается и его собственная тень. Эта совместная качка
была приятна, она как-то роднила мальчика с фонарем. Все-таки свет не покинул
меня в трудную минуту, подумал про себя Саул и, помолившись, направился в жилище
отца.
Из
уважения к этому дому, а главное, из уважения к этому мальчику, ставшему
впоследствии одним из величайших сынов человечества, мы не последуем за ним.
Лучше постоим под старым фонарем, освещающим недостроенный фонтан, поговорим о
чем-нибудь. О чем? Да хотя бы об этом же фонтанчике. Не зря соседи Матафия,
знавшие его бережливость, чтобы не сказать скупость, долго гадали меж собой,
почему не достроит фонтан, на который истрачено столько денег!
Трудный
вопрос. Евреи из диаспоры, или, как их еще называют, народ рассеяния, это люди
особые. Они легко приспосабливались к законам земли, на которой жили, оставаясь,
в сущности, такими же рьяными иудеями, как и те, что проводили дни и ночи в
приделах Иерусалимского храма. А может, это им только так казалось? Может,
страны, в которых они жили, их языки, нравы, обычаи медленно и неотвратимо, по
тем же законам, по которым вода и камень точит, все-таки проникали в их
жизнь?
Во всяком
случае Матафий, отец маленького Саула, будучи гражданином свободного города
Тарса и, что было гораздо важнее, раздобыв, как поговаривали, за большие деньги
звание римского гражданина, построил этот фонтан посреди двора скорее для отвода
глаз. Если заглянут эллины, увидят, что имеют дело с римским гражданином; если
придут проницательные иудеи, они, конечно же, догадаются, что, если из фонтана
не брызжет вода, никакой это не фонтан. Истраченные, однако, деньги не должны
были пропасть, и домовитый Матафий повесил на верхушку недостроенного фонтана
старый дорожный фонарь, который ночи напролет не столько светил, сколько чадил и
коптил.
Вообще-то
осветительное хозяйство в этом доме было явно расстроено. Читатель вправе
спросить - а что, собственно, стряслось со светильником мальчика? Подул ли ветер
с моря, кончилось ли масло, прогорел ли фитиль? В конце концов, не мог
светильник ни с того ни с сего погаснуть!
На что я
скажу - такова была воля Всевышнего. Провидению угодно было, чтобы этот мальчик
этой ночью вошел в покои отца. Конечно, испытание это было тяжелое, можно даже
сказать - жестокое, ну да что поделаешь, нам не подсудны Божьи помыслы. К тому
же, как знать, где найдешь, где потеряешь? Ибо в человеческой жизни бывают дни,
недели, годы, иной раз десятилетия, которые проносятся мимо, не оставляя никаких
следов, точно их вовсе не было. И наступает Мгновение, которое входит в нашу
жизнь на крыльях некоего Божественного Завета, и вместе с тем Божественным
Заветом мгновение превращается в Эпоху. И сколько бы потом человек ни жил, в
каких бы мирах ни вращался, какие бы сообщества ни влияли на него, он уже от
этого Мгновения-Завета отойти не сможет, оно станет частью его
самого.
Обхватив
голову руками, мальчик, выйдя от отца, пошлепал по лужам вокруг старого
друга-фонаря. Кружил и кружил, пока откуда-то вынырнувшая темень не стала
гоняться за ним. "Господи, спаси и помилуй!" - взмолился мальчик. А между тем и
дом, и сам двор уплывали куда-то. Подняв головку, мальчик увидел, что и сам
фонарь пожираем со всех сторон тьмой. Надо было спасать его, но, пока он метался
и соображал, как бы помочь другу-фонарю, кто-то выдернул у него из-под ног
землю. И, улетая в кромешную тьму, мальчик успел возопить на весь
двор:
-
ГОС-ПО-ДИ-НЕ-СОКРУ-ШАЙ-МЕ-НЯ!!!
Последовала долгая,
мучительная борьба между жизнью и смертью. Сколько она длилась, ему не говорили,
да он и не расспрашивал. В фарисейских семьях жалость была не в почете. Тем
более, что и болезнь мальчика была странная какая-то. Ни припадком, ни
обмороком, ни летаргическим сном ее нельзя было назвать. Потрясенная душа
застряла где-то между сном и явью. Долгие дни и ночи мальчик блуждал в кромешной
тьме, пробираясь по узкой горной тропке за еле маячившим вдали
фонариком.
Нога
скользит, скалы нависают со всех сторон, тесня путника и грозя спихнуть его в
пропасть. Страшно возвращаться, еще страшнее дальше идти. А идти нужно, потому
что оттуда, из неведомой дали, родной голос уговаривает сделать шаг, еще шаг,
потому что в конце пути будет свет.
А ножки
уже и не шли. Выбившись из сил, он стал искать какую-нибудь приступочку, и, как
на грех, ну ничего такого, чтобы перевести дух. И вдруг блик теплого лунного
света указал ему, куда сесть, омыв лицо, а заодно и душу. Присев и оглянувшись,
Саул увидел, что с соседней горы время от времени взмывали пучки теплого,
удивительного света, чем-то похожие на лунный свет. Перелетев через пропасть, на
ту гору, на которой стоял Саул, эти лучи резвились, бегали как агницы, гоняясь
друг за дружкой. В горах, однако, играть опасно, и когда агницы переходили меру,
кто-то с той горы созывал их, и они послушно возвращались.
Вглядевшись Саул увидел на
соседней горе Мальчика, ровесника, может, на год или два старше. Поначалу трудно
было понять, как и во что Он играет. Вот Он достает из-за пазухи пучок
золотистых лучей, забрасывает на соседнюю гору. Осветив на миг жуткую глубину
пропасти, лучи, перелетев на соседнюю гору, превращались в агниц. Набегавшись по
крутым тропкам, раскромсав темень своими копытами, агницы, по какому-то
таинственному зову, превращались обратно в лучи и возвращались к Пастушку за
пазуху.
- Ты во
что играешь? - спросил Саул.
- Ни во
что.
- А что Ты
тогда делаешь?
- Помогаю
запоздавшим путникам добираться до своих жилищ.
- Одолжи
мне один такой лучик.
- Зачем он
тебе?
- Я ведь
тоже никак не могу к себе вернуться.
- Что же
ты не посветишь сам себе?
-
Чем?
-
Молитвами.
- Разве
эти разбегающиеся лучи, они Твои молитвы?
-
Конечно.
- Откуда у
Тебя их столько?
- Отец
небесный подарил.
- Как он
мог их подарить, когда Он там, на небесах, а Ты тут. Как молитвы к Тебе
приходят?
- Они
спускаются в виде осенений. Тебя разве никогда не осеняло?
-Теперь уж
вряд ли.
- Отчего так печально слово твое?
- Потому
что я умираю.
- Откуда
ты это знаешь?
- Отец мой
сказал.
- Что он
сказал?
- Теперь -
все. Теперь - конец. Так он сказал.
- Но ты
стоишь, вот, беседуешь со Мной!
- А отчего
это так?
- Потому
что все начала и все концы у Отца небесного. И Отец небесный пожалел
тебя.
- Чем мне
отблагодарить Его за такую доброту?
-
Молитвой.
- У меня
их нет.
- Как -
нет?
- Те, что
были, остыли, окаменели, мне их уже не поднять, не согреть. А других у меня нет.
Одолжи мне, пожалуйста, Свою молитву, чтобы я смог отблагодарить Отца
небесного!
- Хорошо,
- сказал Мальчик на соседней горе. - Я помолюсь за тебя и посвечу тебе. Ты же
повторяй молитву за Мной, и иди своим путем.
- А не
сорвусь?..
- Пока Моя
молитва будет светить, ничего дурного с тобой не случится. Ты готов продолжить
свой путь?
-
Готов.
"Отче
наш..." - послышалось с соседней горы. - "Да святится имя Твое!"
- "Отче
наш, - повторил Саул, - Да святится имя Твое!"
Луч,
упавший к его ногам, тут же превратился в чудесного ягненка, который, повернув
голову в сторону Саула, признавая в нем своего пастыря, тут же зацокал копытцами
по горной тропе.
Слова
молитвы, точно ангелы-хранители, кружили над ним, ягненок катился все быстрее и
быстрее. Саул еле поспевал за ним. Одно время ему даже показалось, что они оба
резвятся, и в этих удивительных играх начало светать. Как только забрезжил свет,
покой и благодать опустились над измученной детской душой. Мальчик начал
погружаться в тот истинный, насущный, животворящий сон, по которому так
истосковалось его потрясенное тельце.
Проспал он
сутки. Утром, когда навестили его, Саул уже сидел, забившись в уголочек, и
распутывал клубок свалявшейся пряжи. При виде открывающихся дверей он вздрогнул,
и его голова тихо начала сползать на правое плечо. Хоть и вернулся с того света,
он еще не знал толком, что, собственно, произошло в их доме. В чем его
провинность, и какое может последовать наказание?
В
фарисейских домах свято соблюдался спокойный, размеренный уклад жизни,
располагающий к постоянному общению с Богом. Если же кем-нибудь из домашних этот
уклад нарушался, принято было творить суд, дабы определить меру наказания
виновного.
Как
правило, суд творил сам глава дома. Иной раз, для пущей важности, а также для
назидания другим, приглашали домочадцев. Бывали, однако, случаи, когда
приходилось приглашать родню, старейшин, а то и самого раввина. В исключительных
случаях под крышей дома суд творил сам раввин.
На этот
раз, хотя речь шла всего-навсего о провинности мальчика, решено было пригласить
раввина. Вероятно, Матафий, человек глубоко верующий, чувствовал за собой грех,
который мог помешать ему быть справедливым до конца. Но, конечно, не исключено,
что он хотел заранее заручиться поддержкой раввина на случай возможных сплетен и
пересудов. Любая община, а еврейская в особенности, тем и прекрасна, тем и
чудовищна, что следит буквально за каждым шагом своих членов.
Суд
происходил в том же дворике возле недостроенного фонтана. В центре восседал на
мягких кожаных подушках, набитых войлоком, раввин Закхей, краса и гордость
иудейской общины Тарса. И хотя раввин был уже в годах и борода его давным-давно
поседела, смотрелся он хорошо, и чувствовалось, что век его еще долог. Черный
плащ с голубой каймой, какие носили в ту пору фарисеи, красиво облегал его
высокую, статную фигуру, а голова была украшена тюрбаном с большим
амулетом.
Хозяин
дома, будучи среднего роста, смотрелся как исключительно могучий иудей благодаря
той значительности, которую он сам себе придавал. Для него тоже были поставлены
кожаные подушки, но он ими не воспользовался, то ли из уважения к раввину, то ли
чтобы лучше следить за происходящим в управляемом им доме. По правой и по левой
дорожкам, уходящим в глубь дворика, выстроились члены семьи Матафия, родня,
помощники раввина, несколько старейшин, и в глубине, возле большого каменного
чана с водой, стоял белый от волнения, готовый сорваться в любую минуту в
лихорадочную дрожь провинившийся мальчик.
Фамарь
принесла и поставила перед раввином большой серебряный сосуд с водой. Раввин
опустил в воду кончики пальцев, увлажнил ими уста, веки, виски, после чего
достал из-за пазухи большой белый платок, вытер им глаза, лоб, руки. Все это
делалось медленно, красиво, церемониально. Упрятав платок и прощупав снаружи,
хорошо ли он устроен на своем месте, три раза ударил посохом в каменный пол,
требуя тишины и повиновения, без которых невозможно рассудить людские
прегрешения.
- А
мальчик в порядке? - неожиданно спросил он хозяина дома.
- Равви! -
воскликнул Матафий. - Твори суд согласно закону, и да не сжалится око твое над
сыном моим!
Раввин
как-то удивленно дернул головой. Должно быть, он не ожидал, что Матафий, редко
выступавший в синагоге с собственными толкованиями закона, вдруг вспомнит этот
стих. Что ж, пути Господни воистину неисповедимы. Опустив веки, раввин пробыл
некоторое время в глубоком оцепенении, моля небеса о благодати, без которой
никакое дело не может быть достойно сотворено, тем паче суд. Наконец,
встрепенувшись, скинув с себя молитвенное оцепенение, властным голосом
повелел:
- Мальчик!
Подойди ко мне!
- А зачем?
- спросил перепуганный мальчик.
Матафий
многозначительно посмотрел на раввина - дескать, вот то самое, из-за чего и
пришлось суд назначить. Раввину, однако, понравилась строптивость мальчика.
Что-то она ему напоминала, и он тут же принялся размышлять вслух, что было
большой слабостью тарского раввина.
- Вопрос
мальчика разумен и к месту. Каждый, кого зовут, имеет законное право вопросить -
а зачем он, собственно, понадобился? Духу нужно время, чтобы предстать достойно.
Будем помнить, что наши предки иной раз даже перед Господом Богом роптали.
Вспомним стенания Иова - Господи, что Ты ищешь пророка во мне и допытываешься
греха во мне? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук
Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?
Матафий
весь как-то съежился, и, доведя хозяина дома до естественных для него размеров,
раввин, уже обращаясь к самому мальчику, отечески пояснил:
- Видишь
ли, сынок... В отличие от твоего отца, я уже преклонных годов. Глаз мой не так
зорок, как в молодости, а суд - бремя тяжкое, и тому, кто берется разбирать
человеческие прегрешения, надо подмечать даже самое малое. А поскольку мои глаза
не так хороши, как хотелось бы мне, я помогаю им руками. И то, что глаз не
заметит, рука не пропустит. Вот для того я тебя и позвал.
- Чтобы
прощупать?